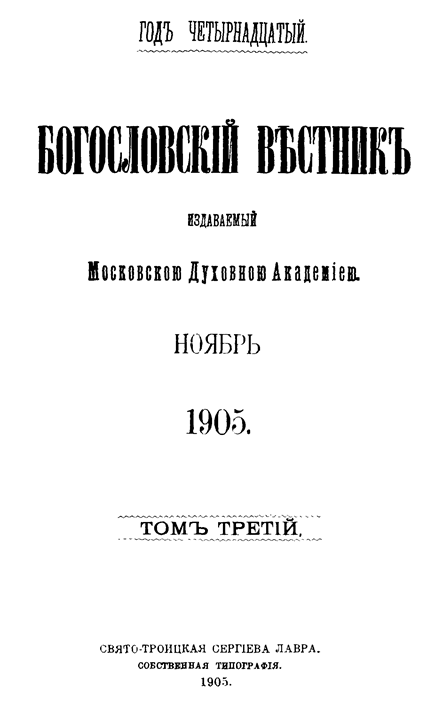розанов около церковных стен
Произведение: В темных религиозных лучах. Метафизика христианства
«Крайний спиритуализм в понимании христианства, поглощение в Христе “человека” “Божеством” — от которого предостерегали нас вселенские соборы — отразились полной материализацией христианства, ежесекундных и повсеместных всплесков христианского моря. Отсюда текут его антиномии; “антиномиями” Кант назвал коренные и идущие от самого начала противоречия нашего разума, и есть такие же “противоречия” в нашей цивилизации.
Остановимся на некоторых. Евангелие есть книга бесплотных отношений — целомудрия, возведенного к абсолюту; и между тем цивилизация, казалось бы, на нем основанная, есть первая в истории, где проституция регистрируется, регламентируется и имеет свое законодательство, как есть законодательство фабричное. “Истинно говорю вам — верблюду легче войти в игольные уши, чем богатому в царство небесное”, — и вот мы видим, что именно “стяжелюбивый юноша” есть господствующий в нашей жизни тип. “Богатый и Лазарь” — какая вековечная притча; но где еще была более роскошная, более блистательная, “блистающая в одеждах” и всяческой “неге” цивилизация, как наша?
Поразительно, что всё течет обратно: не то чтобы по разным путям расходится — “слово” правее и “дело” немножечко влево; нет — они диаметрально кидаются навстречу друг другу».
Кроме текста книги здесь вы найдете аудиокнигу «Религия. Философия. Культура», в которую кроме «Религии и культуры» вошла также книга «Около церковных стен» (И. Репина; «Нигде не купишь»).
Тареев М. М. В. Розанова. Около церковных стен. [Рецензия]
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
[Рецензия] В. Розанова. Около церковных стен. В двух томах. Том первый. СПБ. 1906.
Я смело могу рекомендовать читателям Б. В. новую книгу В. В. Розанова. Автор хочет, чтобы лучи христианские, которые теперь как будто закрыты церковными стенами, вышли из этого ограждения и осветили то, что находится около церковных стен, чтобы стены эти раздвинулись, служба христианского храма стала открытою, чтобы херувимская понеслась по лугам и лесам. «Около церковных стен»— это сборник разнообразных статей, напечатанных прежде в разных повременных изданиях. Он начинается статьей Религия—как свет и радость, и не случайно. В первом томе и собраны статьи, затрагивающие область белых религиозных лучей,—лучи же темные оставлены для второго тома, для «монашеской книги.»
Я потому рекомендую читателям Б. В. новую книгу В. В. Розанова, что ее содержание и тон, хотя и верны общему направлению последних писаний его, но ограничиваются сферами общедоступными, берутся в масштабе популярном, без той остроты и специфичности, с которых начинается слишком индивидуальное. Хотя в книге много критического, но она не столько разрушает, сколько созидает. Радостная и созидательная. «Нам нужна свобода для Бога. А без Бога уже ни свободы не нужно, ни рабство не страшно. Тогда все равно. А Не нужно, чтобы было «все равно». Нужен не конец (христианской) религии, не щебень церкви, а религия—светлая, небесная, Церковь до небес поднимающаяся». Тон умеренно-созидательный, а не радикально-разрушительный, проникает всю книгу от начата
до конца. Вот как, напр. автор отвечает рационалисту, сектанту по вопросу о церковной обрядности.
«Да как же, друже, не вилять (не колебаться)? Конечно жалко вас: но и Россия мне не посторонняя женщина, а хоть и во многом горькая, но в общем родившая меня мать. Тут уж непременно будешь двоиться в мнениях. Скажу кратко и может-быть кое-что поучительное. Люди, спасающие себя «некурением табаку» и благочестивыми беседами о тихом и милом образе жизни, — не только религиозно, но даже и литературно для меня неинтересны! Просто я считаю их немецкими пиетистами. Они читают евангелие, а в церковь не ходят, и боятся, пренебрегают ходить: это, видите-ли, для них слишком грубо и необразованно. Но вот, завзятый анти-византиец, я скажу объективно, холодно и даже равнодушно: что в церкви есть такие некоторые глубины и высоты и красота я проникновения, каких в евангелии вовсе нет — нет ни в полноте, ни даже в начатке. Это вас удивить? Да, в дивных трудах тысячелетнего размышления и созидания Церковь кое в чем поднялась над евангелием: и это-то и есть линия вечного непонимания протестантов, и вместе восторженной и чуткой веры множества русских, что «православие — это конец, дальше которого некуда идти». Заметьте: православие, а не Евангелие. Почему весь народ при пении Херувимской падает ниц, без приказания, без примера священника или диакона, по умилению своему, а при пении молитвы Господней, единственной содержащейся в Евангелии, хотя диакон и подает пример к колено-преклонению, но за ним лишь весьма немногие следуют? Херувимская—дивно мистична, непонятна: а ведь душа религии—в тайне, в сокровении, «в облаке». И вот в Херувимской и выражена небесная тайна религиозной души, смотрящей в небо и что-то особенное там видящей. Напротив, в молитве Господней все понятно, рационально; она устраивает землю, перечисляя ее нужды, но престола Господня, как херувимской, в ней не видно. Это-то и почувствовал народ и пал наземь; а при второй молитве, земной, рациональной, остался на ногах. Что на это скажут господа «не курящие табаку»? Не ходя в церковь, они лишили себя Херувимской песни, которой решительно невозможно заменить чтением ни од-
ной страницы Евангелия, по отсутствию равенства и сходства настроения, потому что Херувимское— новое, другое, сотворенное впервые. И поразительно, сотворенное даже не святым угодником, а каким-то греческим императором. Так, дохнул в него Св. Дух—и века и народы умилились.— Что в Евангелии сказано о смерти и погребении? Единственное: «оставь мертвым погребать мертвых». Больше ничего. Кто же, как не Церковь придумала, и притом вновь придумала, по своему почину, а не на почве Евангелия, двуночное над покойником чтение Псалтири, омовение его тела, как бы умащение и приготовление его к переходу во что-то чистое;—и наконец—дивные по глубине и звукам надгробные песнопения, которых ни один человек не может равнодушно слышать. Развилось-ли это из слов: «оставьте мертвым погребать мертвых»? Конечно — нет, конечно при молчаливом обходе этих слов. Хорошо ли это? и уместен ли этот новый и смелый росток, новый и самостоятельный порыв души учителей церковных, Иоанна Дамаскина и других?! Конечно— благодетелен, велик, свят. Уловив острую и щемящую боль живых около умершего, они обвеяли их чудесными словами, до заключительного: «прииди и даждь последнее целование»! Вот чего никогда не поймет безвкусная штунда, люди без вкуса и остроумия, без размышления. Или возьмем труд, работу. «Раздай имение нищим и возьми крест свой и иди», «взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут». Но бедному человеку в земной юдоли приходится и жать и сеять. Что-же, отвернулась ли и от этого Церковь? Не знаю, есть ли молитва на посев зерна; жалею, если нет; но на случай засухи—есть. Худо-ли это? Конечно—отлично! «Не на сей горе и не в Иерусалимском храме будут поклоняться, но на всяком месте в духе и в истине». Но неужели же мы осудим церковь за то, что она усеяла землю и страны и жизнь народную храмами? и даже не возрадуемся ли, что содеяла их златоглавыми, с золотящимися алтарями, с кадильным дымом, святой водой, с мѵром и пахучим ладаном? Боже, до чего бедна была бы жизнь без них, до чего дика! Плоска, как дорога не обсаженная деревьями, и скучна как кратко-сложенная басня о белом бычке, из строки в строку твердящая одно и тоже!
Церковь-то, храмы-то, и херувимская, и ладан, и праздники «Господские» и «Богородичные», и день Св. Духа, и Троица, и Введение во храм—о последнем даже строки нет в Евангелии—с их отличающимися и несходными чертами, и сложило все-таки в некоторый, хотя еще слабый и бледный, узор нищенское бытие нашего народа! И не за одним «спасением души», какового можно достигнуть и дома, но и за красотою и благолепием идет за тысячи верст какой-нибудь мужик с котомкой в Печерскую лавру, в Троицкую лавру, непременно богатую, блистающую, многоглавую, даже если возможно роскошную и утопающую в архитектурной и певческой и богослужебной красоте! И до чего этот мужик был бы убит, если бы ему, нищему, после тысячеверстной усталости, напомнив слова о поклонении «в духе и истине», показали кучку не курящих табаку господ, читающих в укромной комнатке Евангелие, с предложением: «Вот, садись и послушай мудрецов». Да разве же не читаем мы в том же Евангелии, в «Откровении» Иоанна Богослова, о Небесном сходящем на землю Иерусалиме, т. е. о последнем венце религиозной на земле жизни, что он сходит в блистании драгоценных каменьев, даже с перечислением пород: «и смарагд», «и изумруд», «и яхонт», «яспис», «лазурь», и со стенами из чистого золота? Роскошь. Мы растащили ее на ничтожные земные дела, для грубого личного эгоизма; между тем как конечно народное употребление богатств есть всегда церковное, храмовое и праздничное! И не жаловаться бы на это, но еще и еще, как Возлюбленную Невесту, убирать бы религию благовониями, и красками, и цветами, и деревьями (садами) вокруг церквей, и камнями, и металлами, и художеством живописным, и архитектурным, и певческим. Вот что и значило бы потрудиться для народа: открыть очам его, после того, как открыто слуху, другую мистическую «Херувимскую песнь», теряющуюся куполами и спицами в тверди небесной. Евангелие безгрешно. Но всего круга бытия нашего оно явно не обнимает; а Церковь и есть движение к восполнению, к дополнению, к окончанию, по слову Спасителя: «Я есмь лоза и вы ветви», т. е. растите, живите, умножайтесь в слове и разуме. Что сказано в Евангелии о рождении? Только одна строка: «Женщина, когда
рождает, то терпит скорбь, а когда родила, то забывает скорбь свою, ибо новый человек пришел в мир». Здесь нет никакого приготовления для чудного обряда таинства крещения, с возженными свечами, с каждением ладаном, новой крестильной рубашечкой младенцу и золотым крестом и розовым поясом. Как все хорошо! «Растите и ростите», сказал Христос: и уже дело нашего сердца и мышления и вдохновения религиозного — как, куда, доколе «расти». Бедные протестанты, кальвинисты, анабаптисты, духоборы, толстовцы этого-то и не понимают, вообразив в 4-х Евангелиях полный круг в 360 градусов, когда это явно есть только начатая дуга: и Церковь прекрасно и верно повела далее эту дугу, прибавляя в веках градус к градусу. Слишком проста была бы задача истории: не курить и читать Евангелие. Такого созидания, а отнюдь не духоборческого умаления, нужно желать и ожидать в будущем».
Я привел эту длинную выдержку, потому что этим путем скорее можно дать понятие о тоне книги, о ее направлении,—напротив статьи рассматриваемого сборника как-то не поддаются изложению. В них важнее не что, а как: в последнем именно и талантливость автора, и душевность его пера.
Нужно однако сказать, что статьи очень разнообразны по содержанию: касаются они и миссионерства, и школы, и католичества, и старообрядчества, и старо-католичества, и преподавания закона Божия в школах, и свободы совести, и многих книг, и писателей, и общественных деятелей.
Розанов около церковных стен
Т. I и II. СПБ. 1905-06
Розанов еще далеко не оценен по достоинству. У него много врагов, особенно политических.
«Левые» не могут простить ему его реакционное происхождение: свою публицистическую карьеру он начал в рядах самых злостных и злобных эпигонов славянофильства. «Правые» ненавидят его как анархиста, который расшатывает священные основы государственности: церковь, брак и семью.
В последней книге Розанова собраны самые лукавые, недосказанные статьи.
Надо думать, что это внешнее простодушие, нечто иное, как «та овечья шкура, которою автор надеется прикрыть свою природную хищность». Прием, в смысле тактическом, может быть и достигающий известной, ближайшей цели.
Окружив религиозную и метафизическую проблему пола чисто социальными атрибутами, поставив ради тактических соображений знак равенства между браком и полом, Розанов думал хоть несколько притупить остроту вопроса, сделать его более приемлемым и менее трагичным.
Социальная жизнь может быть реформирована, брак можно обставить более рационально, облегчить развод, озаботиться судьбой незаконнорожденных и т.д., и т.д., словом феноменальные изъяны брачной жизни могут быть замазаны при помощи разных, чисто внешних мероприятий. Простые люди, страдающие именно от этих внешних, феноменальных неустройств жизни, девушки с незаконными детьми, женщины, заразившиеся дурной болезнью от собственных мужей, мужья, имеющие рано состарившихся жен и т.д., как неизлечимо больные, узнавшие о новых чудесных способах лечения, накинулись на Розанова, понесли ему все свои болести, с пламенной надеждой на помощь. И Розанов во многом помог им. Новые законы о незаконнорожденных, некоторые облегчения развода достигнуты отчасти благодаря его энергии, и благодаря тому, что вопрос о разводе он поднял с якобы «православной» точки зрения, нашел в пользу него аргументы убедительные для синодальных и консисторских чиновников.
Но надо сказать, что все эти жаждущие исцеления пациенты донельзя запутали вопрос. Заслуга Розанова, конечно, не в том, что он возбудил вопрос о преобразовании социальной стороны пола. Тут он в сущности нового ничего не сказал, и его робкие попытки реформ кажутся весьма жалкими, в сравнении с теми, к которым стремятся, напр., социалисты. Не касаясь метафизической сущности пола, все социальные реформаторы позитивистического толка лишь высвобождают эту сущность от связывающих и извращающих ее путь социальных противоречий, условностей и предрассудков. Работа Розанова начинается только там, где кончается работа социалистов, потому что он ставит вопрос пола вовсе не социально, а мистически, как проблему вечную, лежащую вне исторических и бытовых ее воплощений. И когда он, сознательно или бессознательно, суживает свою задачу до уровня вопроса социального, он не только вредит себе, затемняя свою писательскую сущность, но и сбивает с толку читателей. Такие статьи как «Из загадок человеческой природы», «Звезды», «В мире неясного и нерешенного», «Дети солнца», наконец, многие страницы из большого его исследования о «юдаизме», где вопрос о поле трактуется в плоскости мистической и религиозной, имеют гораздо больше значения для мятущегося человечества, нежели облегчение развода и улучшение быта незаконнорожденных, эти реформочки, которые могут провести в жизнь даже синодальные чиновники. Подобные социальные предрассудки для людей мало-мальски внутренне свободных просто не существуют, а если и существуют, то как чисто эмпирическое зло, которое устранится само собою, с коренным обновлением социального строя.
Да простит мне автор, но его возня с разводом и незаконнорожденными, напоминает мне возню благотворительных дам с проституцией. Это все гомеопатия, домашнее лечение, психологически несколько успокаивающее больного, но отнюдь его не излечивающее. «Левые», эти истые аллопаты, энергичные хирурги, или добродушно посмеиваются над филантропией Розанова, или подозревают его в. эротоманстве. «Правые» же инстинктивно чувствуют, что тут где-то неладно: не для того ли Розанов так щедро раздает свои гомеопатические крупинки, чтобы приобресть армию преданных клиентов, и при помощи их, в конце концов, подкопаться под незыблемые основы «православной семьи», основы столь дорогие нашим охранителям?
Христианство, поставив аскетический идеал, убило счастие и радость. Жизнь осталась старая, только без радости, без искренней простоты. В мир вошел грех, земля потемнела.
Но Розанов союзник неверный.
Он, прежде всего, отнюдь не реформатор. Реформатор тот, кто признает «предмет», подлежащий реформе, самую основу ее, истинным и благим. Тот же, кто отвергает самую сущность подлежащего реформированию, кто считает силу, проявление которой в жизни должно быть упорядочено и преобразовано, не доброй, а злой, тот все что угодно, только не реформатор.
Таково благополучное, «арифметическое» решение задачи, «ad usum delphini».
Но когда мы обратимся к розановским «логарифмам», то увидим, что аскетизм, монашество, грех, проклятие мира, есть результат вовсе не извращенного, а совершенно правильного понимания Евангелия.
Сам основатель христианства, а вовсе не его последователи, главный источник отрицания мира, главный виновник того, что мир покрылся черной пеленой греха.
И если Розанов так льнет к белому духовенству, к бытовой стороне православной церкви, то именно потому, что здесь он видит бессознательное, жизненное противодействие самой подлинной основе христианства.
* В предисловии к своей книге, Розанов указывает, что статья эта была напечатана в «Вопросах Жизни». Это недоразумение. Статья эта напечатана только в 1908 г. в журнале «Русская Мысль».
Борьба Розанова с христианством особенно значительна потому, что он отнюдь не отрицает в нем сверхчеловеческой мистической силы.
Совсем другое дело Розанов.
Логически Розанов стоит перед следующей дилеммой: или мир есть абсолютное зло, и тогда отрицающее мир христианство есть абсолютное добро, или мир добро, а христианство зло.
В порядке богословской терминологии эту дилемму можно формулировать так: две первые ипостаси взаимно отрицают друг друга. Признав одну ипостась божественной, другую по необходимости надо признать демонической. Tertium non datur.
В метафизике эта антитеза получает характер дуализма, который чистыми позитивистами попросту устраняется, как находящийся за пределами познания, а метафизиками более или менее удачно замазывается, в порядке отвлеченного мышления.
Другого выхода нет.
Дуализм несовместим с высотой современного религиозного сознания и Розанов настойчиво требует его разрешения путем отсечения одного из положений антитезы. В том, что Розанов именно так поставил вопрос, и сила его и слабость.
Действительно, для христианства, только христианства, другого пути к преодолению антитезы и быть не может. Или отречение от Христа или отречение от мира.
Аскетизм, «черное», «монашеское» христианство есть подлинная, непререкаемая сущность только христианской религии, замкнувшейся во второй ипостаси, и остановившейся в своем совершенно естественном противоположении языческо-еврейскому утверждению Бога-Творца, источника мировой, безличной жизни. Православие, членом которого Розанов был долгое время, как и всякая историческая, только христианская, религия, не могла дать Розанову ответа на мучивший его вопрос. Пора, наконец, признать, что христианство, только христианство, не есть религия соборная, церковная, общественная, а только личная, индивидуальная. Все выходы исторического христианства в мир и общественность, ведут к неминуемому провалу. Папизм и абсолютизм, эти общественные выражения исторического христианства так же в корне своем ложны, как и христианский социализм. Здесь есть contradictio in adjecto. И как бы наши нео-христиане, (я имею в виду Булгакова, Эрна, Свенцицкого и их кружок) ни старались, не преодолев исторического христианства, никакой общественности они не создадут. Вся сущность их чисто «монашеская», «аскетическая». Розанову они возразить ничего не могут.
Называя «мистическим блудом» искания современной религиозной мысли, они проявляют много личной, но отнюдь не общественной добродетели. Для Розанова религия вовсе не «мистический блуд», а дело самой реальной жизненной необходимости. Но вместо того, чтобы принять хотя и неполную, но, несомненно, истину, которая заключена в историческом христианстве, и, преодолев ее, обернуться лицом к грядущему синтезу, он обратился вспять, к религиям до-христианским, к религии если и безгрешной, то безличной. Освобождение от греха он купил ценою слишком легкого отречения от вечной, бессмертной, человеческой личности. Заслуга его в том, что он не побоялся дойти до последних выводов, и, оставаясь в плоскости мистической и религиозной, показал, что христианство, «только христианство» не может больше удовлетворить всех запросов пробудившегося религиозного сознания.
Сам Розанов не нашел ответа на поставленный им вопрос, но он расчистил путь для этого ответа, и дело будущей коллективной, религиозной мысли выйти из противоречия между миром и Христом.
Статья включена в книгу «Слова и жизнь: Литературные споры новейшего времени (1901-1908 гг.)». СПб., 1909.
Розанов около церковных стен
В темных религиозных лучах. Свеча в храме
Вступительная статья А. Тесли
© Тесля А. А., вступительная статья, 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
«Метафизика христианства»: об истории книги
(в казначействе перед решеткой)
(пенсия 49 р. в месяц)
«В темных религиозных лучах» – так называлась книга Василия Васильевича Розанова, которую он начал печатать в 1909 г. в издательстве известного в те годы Михаила Васильевича Пирожкова, много выпускавшего литературы «религиозно-философского содержания», весьма разнообразной по содержанию и направлению. Так, в 1906 г. он первым, воспользовавшись изменением правил о цензуре, выпустил русский перевод скандально известной «Жизни Иисуса» Эрнеста Ренана, издавал он в эти годы и Me-режковского, и близкого к нему тогда Розанова – у него в 1905–1906 гг. вышли два тома «Около церковных стен», своего рода «введения» к новой, главной книге Розанова о христианстве[1].
В 1909 году, однако, книга выйти не смогла – из-за банкротства издателя, как оказалось, печатавшего большее количество экземпляров, чем объявлял авторам – и от того, не рассчитав спроса, оказавшегося неоплатным должником[2]. Тогда помощь в деле издания Розанову оказал Сергей Платонович Каблуков, секретарь Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества, одним из основателей и своего рода «душой» которого был Василий Васильевич, – отпечатанные листы были выкуплены за 1000 руб., и затем уже принялись за печатание оставшегося[3]. К началу 1910 г. «В темных религиозных лучах» были отпечатаны, однако здесь возникли проблемы другого рода. Каблуков в дневниковой записи от 14 января 1910 г. рассказывает о запрете, наложенном начальником Главного управления по делам печати А.В. Бельградом:
Параллельно с этим цензурные мытарства претерпевала и другая книга Розанова – изданная им чуть ранее брошюра «Русская Церковь»: статья, первоначально, в 1905 г., написанная для итальянского сборника (и в 1906 г. – в эпоху цензурной вольности, вызванной манифестом 17 октября 1905 г., провозгласившим «свободу печати», которую в первые месяцы никто не знал как толковать и не ведал ей пределов, изданная П.Б. Струве в редактировавшимся им недолговечном журнале «Полярная звезда»). В отдельном издании «Русская Церковь» попала под арест – в конце концов, после изъятия наиболее сомнительных мест и перепечатки соответствующих страниц, снятый по приговору Санкт-Петербургской судебной палаты[5].
Если брошюру удалось спасти, ограничившись частичной перепечаткой, то книга была уничтожена, за исключением двух экземпляров[6]. В итоге Розанов принял решение перекомпоновать книгу – вместо одного большого тома выпустить два небольших, изменив структуру, – они выходят в следующем, 1911 г., под заглавиями «Темный лик» и «Люди лунного света», имея общий подзаголовок «Метафизика христианства». Первоначального замысла Розанову было жаль настолько, что в «Темный лик» он включил не только предисловие к уничтоженной книге; но и ее оглавление.
Издательские перипетии имели далеко идущее значение – в первичной структуре книги та часть; которая затем была выделена в отдельное издание «Люди лунного света»; занимала промежуточное положение – эти статьи и заметки призваны были объяснить и прояснить розановское понимание христианства. Теперь; став отдельным текстом; они прочитывались «скандально»; как своего рода обвинение в «лунных»; «содомских» истоках христианства. Флоренский; один из немногих; тонко уловивших суть рассуждений Розанова; писал ему в первом большом письме – после которого и завязалась их многолетняя переписка:
«Не Вы ли чуть не прямо призывали к кровосмешению и даже к скотоложеству? Поверьте; что я говорю вовсе не для осуждения. Я только спрашиваю; какое основание и какое право имеете Вы хулить содомизм […]. Вы говорите тоном тяжкого осуждения: „христианство – содомично“. А должны были бы радоваться: „вот, мол, новый тип (помимо, напр., скотоложества) полового общения, новая разновидность мистики плоти“.
Право же, я не верю искренности Вашего возмущения, подозреваю за ним совсем иную действующую причину, – нерасположение ко Христу, – лично к Нему, а затем и ко всему, что с Ним связано. Не потому Вы отталкиваетесь от христианства, что считаете его содомичным, а потому осуждаете содомизм, что подозреваете его в христианстве, христианство же не любите. Христианство же не любите, ибо оно требует самоотвержения, а Вы хуже огня боитесь всякой трагедии, всякого движения. Вы живете только настоящим. Вы хотите боготворить мир. Христианство не дает Вам сделать этого, – вот Вы раздражены на христианство и затем – на содомизм»[7].
Для тех немногих, с кем интенсивно общался Розанов прежде и кто был знаком с его воззрениями, внимательно читая и слушая то, что он говорит (благо основная часть, вошедшая сначала в состав «В темных религиозных лучах», а затем в два тома «Метафизики христианства», высказывалась им так или иначе ранее), его суждения не были новостью.
Так, Д.В. Философов еще в рецензии на два тома «Около церковных стен», вышедшей в 1907 г., обсуждает не их – а как раз «логарифмы», обвиняя Розанова именно в том, что он недоговаривает, не проясняет действительного направления своих стремлений, цели своей борьбы:
Многие простодушные читатели поддаются этой иллюзии. Угнетенные „черными“ архиереями, сельские священники протягивают, подобно несчастным в супружеской жизни корреспондентам Розанова, свои длани за помощью и утешением. Благочестивые миряне, не могущие вместить аскетического ригоризма, зачитываются его произведениями. И Розанов поддерживает в них эту иллюзию. Новая его книга – ясное тому доказательство»[8].
И далее пишет: «Каково же будет удивление читателя, когда, прочитав такие статьи из „будущего“ сборника, как, например, „Христос как Судия мира“ или „Об Иисусе Сладчайшем“ он увидит, что эти „логарифмы“ вовсе не подтверждают „арифметических“ истин, а прямо и бесповоротно их опровергают»[9]. Если Философов утверждает, что дилемма, поставленная Розановым, верна и не верна одновременно – а именно «Христианство [согласно Розанову – А.Т.] есть, несомненно, служение божеству, вопрос только, светлому или темному» и «Розанов склоняется к тому, что это есть служение божеству темному», запертый в необходимости выбирать между Ветхим и Новым Заветом:
«[…] для христианства, только христианства, другого пути к преодолению антитезы нет и быть не может. Или отречение от Христа, или отречение от мира» [10],
В предисловии Розанов говорил: «Настоящая книга вращается исключительно в белых лучах и имеет белые тоны, усиливается к белым целям. Но есть и монашество… Нельзя его отрицать. Это великий факт, мирообъемлющий; всегда побеждавший, может быть, непобедимый. […] все статьи, здесь собранные, вращаются в прямых, понятных, сравнительно легчайших темах христианства, как бы в темах „арифметических“; тогда как те, более трудные и темные (монашеские) статьи, в самом деле представляют собой что-то „после арифметики“ ну, там „непрерывные дроби“ что ли, христианства, его логарифмы…» [Розанов В.В. Собрание сочинений [В 30 т. Т. 5]. Около церковных стен / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М.: Республика, 1995. С. 9].
Об этой истории писал сам Розанов в статье: К истории одного книгопродавческого разорения // Новое Время. – 22 июля 1909. – № 11982.
См.: Каблуков С.П. О В.В. Розанове (из дневника 1909 г.) // В.В. Розанов: pro et contra. Кн. I / Сост., вступ. ст. и прим. В.А. Фатеева. – СПб.: РХГИ, 1995. С. 207 и сл.
Цит. по: Фатеев В.А. Жизнеописание Василия Розанова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2013. С. 664.
Об оборотной стороне этой истории Св. Синоду докладывал саратовский епископ Гермоген в рапорте от 27 февраля 1911 г.: «У нас в Саратове в книжных магазинах „Нового времени“ стали теперь продавать брошюру В. Розанова „Русская церковь. Дух. Судьба. Ничтожество и очарование“. Брошюра анонсируется заманчивым объявлением – „Освобождена от ареста по решению С.-Петербургской Судебной палаты“ Такого рода анонс привлекает к брошюре внимание со стороны общества» [Цит. по: Николюкин А.Н. Возвращенная книга // Розанов В.В. Собрание сочинений [В 30 т. Т. 3]. В темных религиозных лучах / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. – М.: Республика, 1994. С. 442].
Фатеев В.А. Указ. соч. С. 664.
Розанов В.В. Собрание сочинений [В 30 т. Т. 29]. Литературные изгнанники. Кн. 2. / Под общ. ред. А.Н. Николюкина. Сост. А.Н. Николюкин; коммент. А.Н. Николюкина, С.М. Половинкина, В.А. Фатеева. – М.: Республика; СПб.: Росток, 2010. С. 12–13, письмо от 21.XII.1908 г.
Философов Д.Б. Рец.: В.В. Розанов, «Около церковных стен», тт. I и II, СПб., 1906–1906 // В.В. Розанов: pro et contra. Кн. II / Сост., вступ. ст. и прим. В.А. Фатеева. – СПб.:РХГИ, 1995. С. 9.