какие высказывания называют публичными
Слово не воробей, но поймать на нём
Современная народная мудрость
Прежде чем писать статью, убедитесь, что
в вашей кассе есть деньги.
Одной из основных ценностей правового государства является свобода слова, проявляющаяся в возможности высказывать любые суждения, писать на многие темы. Это закреплено в Конституции РФ (ст.29, гарантирующая свободу мысли и слова, запрет на цензуру, беспрепятственное движение информации), а также, например, в Законе «О средствах массовой информации» от 27.12.91 (ст. 3 о недопустимости цензуры).
Но право общества на информацию сосуществует с не менее важным правом на информационную безопасность государства, общества, личности. Так, ст. 23 Конституции РФ гарантирует неприкосновенность частной жизни, личных и семейных тайн, защиту чести и доброго имени; ст.24 содержит запрет на сбор, хранение и распространение информации о частной жизни без согласия на то самого гражданина. Уголовный кодекс РФ предполагает наказание за оскорбление (ст. 130), за клевету (ст. 129), за нарушение неприкосновенности частной жизни (ст.137), за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст.280), за возбуждение ненависти/вражды, а равно унижение чужого достоинства (ст. 282). Правила ст. 152 Гражданского кодекса РФ регулируют вопросы защиты чести, достоинства, деловой репутации как гражданина, так и юридического лица.
Помочь судьям вынести определенный однозначный вердикт с применением вышеперечисленных статей УК РФ или ГК РФ призвана лингвистическая экспертиза.
Задачами лингвистического исследования могут являться:
— толкование и разъяснение значений и происхождения слов, словосочетаний, устойчивых фразеологических выражений (идиом);
— интерпретация основного и дополнительного значений языковой единицы или единицы речи (устной или письменной);
— изучение текста (фрагмента) с целью выявления его смысловой направленности, модальности, экспрессивности и эмотивности речевых единиц, специфики использованных стилистических средств и приемов.
Так, при рассмотрении дел по обвинению в оскорблении (ст. 130 УК РФ) необходимо установить:
1. Содержатся ли в предложении/ тексте слова, словосочетания или фразы, относящиеся к оскорбительной лексике?
2. Имеется ли в высказываниях отрицательная оценка личности гражданина, подрывающая его престиж в глазах окружающих, наносящая ущерб уважению к самому себе? Если имеется, то выражена ли такая отрицательная оценка в циничной, неприличной форме, противоречащей правилам поведения, принятым в обществе?
3. Идет ли речь в высказывании, содержащем отрицательную оценку личности в неприличной форме, несомненно и именно о гражданине?
4. Имеется ли в тексте выраженная в неприличной форме отрицательная оценка личности гражданина, имеющая обобщенный характер и унижающая его честь и достоинство?
Итак, объективная сторона данного преступления заключается в умалении чести и достоинства в «противоречащей установленным правилам поведения, требованиям общечеловеческой морали» форме, неприличность которой и требуется доказать.
Как видим, в основе подобного разбирательства лежит выяснение, является ли слово/выражение оскорбительным. В определённых ситуациях определить это не составляет труда. Среди пластов лексики лингвисты выделяют пласт так называемых инвективных (бранных) слов, употребление которых содержит намерение оскорбить, унизить адресата речи и нарушает нормы общественной морали. Это могут быть как слова жаргонные, диалектные, просторечные, так и слова, относящиеся к собственно литературному языку.
Можно выделить 9 разрядовинвективной лексики:
— Слова и выражения, с самого начала обозначающие антиобщественную, социально осуждаемую деятельность: бандит, жулик, мошенник.
— Слова с ярко выраженной негативной окраской, составляющей основной смысл их употребления: двурушник, расист, враг народа, фашист, нерусь.
— Эвфемизмы для слов предыдущего раздела, сохраняющие их оценочный (резко негативный) характер: женщина легкого поведения, путана, интердевочка.
— Названия профессий, употребляемые в переносном значении: палач, мясник.
— Зоосемантические метафоры, отсылающие к названиям животных: кобель, кобыла, свинья.
— Глаголы с «осуждающей» семантикой или даже с прямой негативной оценкой: украсть, хапнуть.
— Слова, содержащие в своем значении негативную, причем весьма экспрессивную оценку чьей-либо личности: гадина.
— Окказиональные (специально создаваемые) каламбурные образования, направленные на унижение или оскорбление адресата: коммуняки, дерьмократы, прихватизация.
— Обсценная (т.е.непристойная) лексика, в том числе ее разновидность – мат.
Однако не всегда фраза может содержать подобную лексику, тем не менее высказывание может быть признано как унижающее честь и достоинство. Разберём это на следующем примере:
На первый взгляд, довольно убедительная позиция. Однако условия употребления общеупотребительных слов, не относящихся к грубым, бранным, уничижительным (согласно литературным нормам), в этих высказываниях порождают дополнительные смыслы, несущие заряд инвективности в силу направленности на отрицательную оценку деловых качеств, профессиональной квалификации следователя. Создается образ К. как некомпетентного, ограниченного, примитивно мыслящего, нерадивого чиновника – формалиста, что воспринимается следователем К. как унижение профессионального и человеческого достоинства.
Ответчик пытался уйти от квалификации его речевых действий как унижающих честь и достоинство личности, ссылаясь на то, что его оценка «относилась не к ней лично», а к ее высказываниям. Но высказывание – результат речемыслительной деятельности личности, и поэтому резко отрицательная оценка не только личности в целом (вы – идиот, кретинка), но и отдельных черт характера, поступков, действий, высказываний относится к человеку «лично».
В юридической оценке конфликта значительную роль играет установление умышленности действий ответчика. В рассматриваемой ситуации для доказательства умышленности недостаточно данных лингвистического анализа, так как лингвист не может утверждать или отрицать правомерность требований следователя. Если следователь был неправ, то, вероятно, можно говорить о неконтролируемой эмоциональной «вспышке» в спровоцированной ситуации как смягчающем обстоятельстве. Если же следователь был прав и, как юрист, г-н С. не мог не знать этого, то инвективный умысел ответчику отвергнуть практически невозможно. С позиций лингвистики текста, и в том и другом случае имеет место факт речевой агрессии, а высказывания С. квалифицируются как инвективные по результату воздействия (даже возможному) на адресата.
Приведём ещё один пример, иллюстрирующий уже иной результат лингвистической экспертизы.
В ходе рассмотрения в суде дела «Самойлов против Троицкого» (июнь 2011 г) была назначена лингвоэкспертиза фразы, прозвучавшей в телепрограмме, которую вёл музыкальный критик Артемий Троицкий. Самойлов возмутился, услышав о себе слова “дрессированный пудель при Суркове” (имелся в виду первый заместитель главы Администрации Президента РФ Владислав Сурков, с которым в 2003 году музыкант из “Агаты Кристи” выпустил совместный диск “Полуострова”), и подал иск о компенсации в миллион рублей.
Казалось бы, исход дела очевиден: фраза, характеризующая человека как чьё-то «приложение», произнесённая в эфире, да ещё в уничижительной форме (образ пуделя – метафора, построенная на оценке деятельности и внешнем сходстве), может оскорбить не только публичного, но и любого другого человека. В данном случае фраза могла нанести вред репутации артиста, поэтому иск был подан по факту распространения сведений, не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Однако лингвисты заключили, что выражение носит хоть и негативный, критический, но оценочный, а не оскорбительный характер. Солист группы «Агата Кристи» был вынужден забрать иск, поскольку добиваться публичного опровержения стало бессмысленно.
Результаты данной экспертизы вовсе не ошибочны. Они объясняются установками (типовыми вопросами), предъявляемыми к лингвоэкспертизе по делам, связанным с защитой чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ):
4. Являются ли сведения, изложенные в высказывании утверждениями о фактах (если да, то каких) или мнением автора статьи (журналиста, редакции)?
Именно ответ на последний вопрос является ключевым в разбирательстве.
Как выяснить, содержит высказывание/текст факты или мнение?
Если лингвистическому анализу подвергается газетная статья, то необходимо помнить, что, помимо оценочности, эмоциональности, публицистика обладает таким качеством, как полемичность, которая создаётся за счёт отражения разных позиций. Поэтому следует определять, является ли анализируемое экспертизой высказывание авторской самоманифестацией или отображением чужой позиции с целью выразить согласие или несогласие.
Контрольные вопросы и задания:
Дайте слово
Публично высказывать свое мнение, даже если оно расходится с «генеральной линией» руководства, госслужащему можно.
К такому мнению пришел Конституционный суд России, рассмотрев жалобы бывшей сотрудницы налоговой инспекции Любови Кондратьевой и милиционера Алексея Мумолина. Правда, с существенной оговоркой: если таким образом защищаются государственные, общественные интересы или права граждан. Постановление Конституционного суда сегодня публикуется в «Российской газете».
Любовь Кондратьева была уволена с государственной службы за то, что осмелилась на одном из телеканалов покритиковать межрегиональную инспекцию Федеральной налоговой службы по ЦФО за неправильное начисление зарплаты сотрудникам, находящимся в командировках. По ее мнению, такие начисления осуществлялись в противоречии с российским законодательством.
Так, госслужащему нельзя допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов и их руководителей. Разумеется, запрещено обсуждать и решения вышестоящего государственного органа.
Местные суды, в которые обратились Кондратьева и Мумолин с просьбой отменить обрушившиеся на них наказания, оставили волю начальников в силе.
В первую очередь Конституционный суд исследовал вопрос: а конституционен ли сам запрет для госслужащих что-то там публично высказывать? Не нарушается ли таким образом право каждого человека на свободу слова и волеизъявления?
Своим постановлением Конституционный суд потребовал пересмотра судебных решений, оставивших в силе увольнение Любови Кондратьевой и взыскание Алексея Мумолина.
Публичная речь
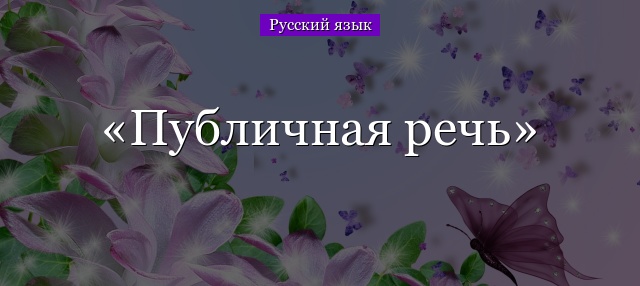
Всего получено оценок: 311.
Всего получено оценок: 311.
Публичной называют такую речь, которая рассчитана на аудиторию, на восприятие значительным количеством слушателей. Именно публичному стилю речи посвящена наша статья.
Устная или письменная
По большей части публичная речь – это речь устного выступления. Ей присущи многие черты устной речи:
Но в тоже время публичная речь имеет и ряд особенностей письменной речи:
Качество публичной речи
На результативность, качество публичной речи влияют многие факторы.
Например, психологические:
Отсюда следует правило выбирать тему, которая интересна и докладчику, и аудитории.
Другая большая группа факторов связана с умением докладчика находить и подбирать информацию.
И, наконец, третья группа носит собственно лингвистический характер. Это умение докладчика пользоваться стилистическими и лексическими богатствами русского языка и подбирать их в соответствии со своей коммуникативной целью. Сюда можно отнести:
Жанры публичной речи
Различные выступления нам приходится слушать достаточно часто. В зависимости от того, кто, кому и по какому поводу говорит, мы можем разделить публичную речь на несколько жанров.
Первый из них – это общественно политические речи. Примерами могут служить
Выступление на научную тему:
Торжественные речи – это речи, которые произносят на различных праздниках, юбилеях. Сюда можно отнести поздравительные высказывания, тосты и вообще все речи, связанные с какими-то особенными датами и посвящённые им.
Жанр определяется в соответствии с коммуникативной целью. Если цель докладчика – сообщить научную информацию, то он выбирает один из научных жанров. Если он хочет убедить в чём-то аудиторию, то ему стоит выбрать общественно-политическую речь. И, наконец, если его цель всего лишь создать праздничную, торжественную обстановку, докладчик выбирает жанр торжественной речи.
Принципы построения публичной речи
Как правило, публичное выступление имеет классическую трехчастную структуру: вступление, основная часть, включающая аргументацию, и вывод или заключение.
Вступительная часть очень важна: она мотивирует слушателей обратить внимание на высказывание докладчика. И, если вводная часть построена занимательно, с привлечением доказательств актуальности темы, то слушатели с большим интересом относятся к дальнейшему выступлению. В этой части высказывания докладчик должен стремиться заинтриговать слушателей, внушить им доверие к тому, о чём он будет рассказывать. В этой же части обычно высказывается тезис, который в дальнейшем будет доказывается.
В основной части содержится изложение аргументов и собственно доказательство или разбор какого-либо вопроса. В этой части важно четко разделить аргументы и конкретно пояснить, каким образом они подтверждают тезис.
Психологи утверждают, что в основной части не должно быть более 7 каких-либо утверждений или аргументов, потому что перенасыщенный информацией доклад с трудом воспринимается слушателями и не достигает цели.
Вывод, или итог, является обязательным условием грамотно построенной публичной речи. Если вывод не сделан или итог не подведен, у слушателей остаётся впечатление, что высказывание было бессмысленным и бесцельным.
Вывод может как подтверждать тезис, так и предлагать отчасти новую информацию, к которой докладчик пришёл в процессе своего сообщения.
Что мы узнали?
Публичная речь имеет черты как устной речи, так и письменной. Но бытует она обычно в устной форме. Существует несколько жанров публичной речи. Необходимый жанр выбирают в соответствии с коммуникативной целью, которую ставит перед собой докладчик. Результативность высказывания зависит от ситуации, психологических особенностей докладчика и слушателей, от умения подобрать и интерпретировать информацию, а также от собственно лингвистических факторов, то есть от того, насколько грамотно и выразительно построено выступление. Публичная речь строится по классической трехчастной схеме.
Определение понятия публичности.
Имеется ли в Российском законодательстве какие-либо критерии, которые могли бы однозначно отнести высказывание к категории публичных. Пример: является ли публичным высказывание сделанное в разговоре между сотрудниками одной организации в не рабочее время?
Ответы на вопрос:
Похожие вопросы
В Кодексе профессиональной этики военнослужащих ВВ. прописано воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности МВД России, Министра внутренних дел Российской Федерации, если это не входит в должностные обязанности военнослужащего внутренних войск. Является ли высказывание военнослужащего в соцсети публичным или это носит частный (личный) характер? Может читать каждый? За это могут отчислить из института?
В нашей организации прослушиваются телефоны, сотрудники об этом предупреждены. Издан приказ по организации. Можно ли на основании записи телефонного разговора применить к сотруднику меру дисциплинарного воздействия, например, за грубость в разговоре с клиентом, либо обязать сотрудника выплатить сумму за телефонные переговоры в личных целях?
В Кодексе профессиональной этики военнослужащих ВВ. прописано воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности МВД России, Министра внутренних дел Российской Федерации, если это не входит в должностные обязанности военнослужащего внутренних войск. Является ли высказывание военнослужащего в соцсети публичных или это носит частный (личный) характер?
«Российский закон позволяет Российской стороне, при сделках с зарубежными партнёрами выбирать законодательство…..»
Будет ли выбор зарубежного законодательства исключать перевод дела в Российские суды?
Какие нормы Российского законодательства применимы в отношении выбора закона или юрисдикции суда?
1. По русскому законодательству, от иностранного гражданина или организаций, требуется или нет, гарантия возмещения процессуальных расходов ответчика российской организации или гражданина, если на гражданском процессе против российской организации или гражданина Истцом выступает гражданин или организация других государств?
2. Существует какое либо ограничения связи первому вопросу если на гражданском процессе истцом выступает гражданин или организация Грузии?
К примеру, выявлены нарушения законодательства, уполномоченным органом, неважно какое, к примеру, ЖК РФ. Заинтересованное лицо через суд пытается понудить исполнять это законодательство при этом не являясь тем, чьи интересы нарушены неисполнением законодательства.
Как мотивировать требование исполнять законодательство.
В нашей больнице введены критерии качества по балльной системе, каждый бал отражает индивидуальный коэффициент качества работника, и в соответствии с этими критериями формируются стимулирующие выплаты. Также у нас есть должностные инструкции, в которых прописаны наши функциональные обязанности. Так вот ситуация такова, что нам работникам, перед начислением стимулирующих выплат, из которых по большей мере и складывается наша зарплата, давали на подпись форму, где указывались критерии и которые либо выполняются, либо нет. А также напротив каждого критерия ставился процент удержанных баллов за какие-либо погрешности в работе. Но в чём вся суть моего обращения, в эту форму критериев введён был новый критерий за который нас работников лишали стимулирующих выплат на 0,15%, который не был отражён в должностной инструкции и даже не была подготовлена почва для выполнения работы по этому критерию. Т.е. говоря простым языком этот критерий был придуман главврачом для оправдания таких вот денежных удержаний. Вопрос: нарушены ли в данном случае права работника работодателем и можно ли получить удержанное больницей?
Можно ли преследовать людей за слова?
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
Как статья 282, которая должна была бы ограждать граждан от унижения по различным признакам, превратилась в инструмент борьбы с инакомыслием
В Международном Мемориале состоялось обсуждение статьи 282 Уголовного кодекса РФ. За круглым столом собрались директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, член правления Международного Мемориала Александр Даниэль, адвокаты Генри Резник и Дмитрий Аграновский, руководитель правозащитного центра «Русского общественного движения» Наталия Холмогорова и руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» Сергей Давидис. Slon публикует фрагменты беседы.
Необходимо ли уголовное преследование за высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения? Подлежат ли уголовному запрету только призывы к насилию и дискриминации или какие-то иные действия? Возможно ли однозначно и недвусмысленно определить в законе состав призывов к насилию или дискриминации? Какими должны быть особенности уголовного преследования, должны ли быть уголовно наказуемыми, помимо высказываний, публично совершенные действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды? Требуется ли вообще специальная статья, предполагающая наказание за призывы к высказываниям или действиям такого рода, – и если она не требуется, то какова должна быть ответственность за такие призывы?
Что такое публичное высказывание применительно к интернету?
Александр Верховский: Первое, что хочется спросить: а можно ли вообще преследовать людей за слова? Ответ будет: безусловно, можно, это происходит везде, в том числе и в США, просто потому, что слова являются разновидностью деяния. Второй вопрос: откуда берутся основания для специальных законов о преступлениях на почве ненависти? Ответ: это происходит из представления о равноправии как о фундаментальной ценности, грубое покушение на которую должно быть наказуемо. Задача в том, чтобы найти баланс в соблюдении основных гражданских прав и свобод. И непонятно, почему нужно все начинать с нуля, – я думаю, мы должны выбрать правильный ориентир, например, Совет Европы.
Как бы я хотел видеть 282-ю статью? По натуре я эволюционист и склонен считать, что любые изменения приводят к лучшему. К тому же из-за медленности этих изменений нет причины сейчас формулировать некий идеальный закон. Я отталкиваюсь от более важного – от насильственных преступлений, совершаемых по причине того, что у нас называется мотивом ненависти. То, что они наказываются более строго, и то, что ненависть является отягчающим обстоятельством, – это общепринятая практика. Вопрос в том, из ненависти по каким признакам совершается преступление. Это зависит от данного общества, от ситуации, от наличия консенсуса в том, что дискриминация по такому-то признаку является предосудительной. Если подобие консенсуса есть, то тогда это может быть криминализовано.
Если есть такие преступления, то и публичные призывы к совершению такого рода преступлений тоже могут рассматриваться как преступления. Я считаю, что могут быть криминализованы публичные призывы к совершению тяжких преступлений на дискриминационной почве. Всякие же высказывания унизительного толка (унижение достоинства) я бы декриминализовал, это должно быть предметом административного преследования или гражданского спора. Статья бы радикально сократилась.
Одной из важных вещей является и то, что призыв не обязательно выражается в форме глагола повелительного наклонения. Тем не менее это должен быть понятный призыв, а не что-то, что можно вычитать с большим трудом. Соответственно, это должен определять следователь или судья, а не множество привлеченных академических экспертов. Интересно и то, насколько список этих мотивов ненависти может включать также политическую или идеологическую ненависть. Важно отрегулировать вопрос и о публичности высказывания – например, что такое публичное высказывание применительно к интернету? Ведь есть шкала, которая не может быть установлена в законе, но может вытекать из практики. И, наконец, последняя частность – мотив ненависти может пониматься по ассоциации (например, недавний случай нападения киргизских националистов на киргизских девушек за то, что они гуляют с таджикскими парнями).
У этой проблемы есть и важный политический аспект. Я дискутировал с Владимиром Миловым, и он сказал, что не хотел бы иметь такую статью в Конституции, чтобы не осуществлять с ее помощью политические преследования. В демократическом государстве не президент применяет статьи Уголовного кодекса, а независимый суд, и каким бы замечательным закон ни был, без независимого суда он будет применяться не самым лучшим образом. На суд всегда ложится большая нагрузка – он оценивает сами высказывания, их контекст и возможные последствия. Можно сказать, что с нашей нынешней властью и судами трудно ожидать, что они справятся, отсюда возникает идея, что лучше вовсе отменить нормы как невыполнимые. Но, с другой стороны, с нынешней властью их нельзя и отменить.
И последнее: что делать с теми, кто уже осужден? Среди них почти никто не находится в заключении – за исключением тех, кто осужден и за насильственные преступления. Мне кажется, что если добиться какого-то изменения составов 280-й и 282-й статей, это автоматически станет условием для пересмотра всех вынесенных ранее приговоров, и этого достаточно.
Наказывать за слова лишением свободы – это не XXI век
Дмитрий Аграновский: Я хочу напомнить диспозицию статьи 282 – это действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием СМИ. По первой части предусмотрено наказание в виде двух лет лишения свободы, по второй части – до пяти лет лишения свободы. На мой взгляд, статья, аналогичная 282-й, нужна, но у нас из-за расплывчатости формулировок под эту статью попадает практически все, что угодно, и статья, которая должна была бы ограждать граждан от унижения по различным признакам, превратилась в инструмент борьбы с инакомыслием. Если говорить о корректировке, то я бы убрал слово «действия» – это очень расплывчатая формулировка и «социальную группу» – под это тоже можно подвести все что угодно.
На сегодняшний день основным доказательством по делам 282-й статьи является экспертиза. Она, как правило, проводится людьми некомпетентными, и кого угодно могут признать виновным в чем угодно (например, выражение «Долой самодержавие и престолонаследие» было признано призывом к свержению существующего строя). Экспертизы такого рода необходимо в принципе исключить из процесса, идеально было бы, если по всем этим статьям у нас были присяжные, но такого мы дождемся не скоро.
Также категорически необходимо исключить лишение свободы, потому что наказывать за слова лишением свободы – это не XXI век. Санкции должны быть небольшими, как правило, само по себе привлечение к ответственности действует достаточно отрезвляюще, тем более что под эту статью попадает в каком-то смысле элита общества, люди, которые хотят что-то изменить в обществе. Еще, к сожалению, на сегодняшний день эта статья носит избирательное действие, ее даже назвали «русской статьей», так как она действует только в одну сторону. В довершение к вышесказанному добавлю, что в формулировке необходимо оставить лишь дискриминацию, а саму статью нужно смягчить, лишь тогда это может превратиться в работающий инструмент.
Намерения человека – самый трудноустанавливаемый элемент преступления
Наталья Холмогорова: Моя позиция совершенно бескомпромиссна: 282-ю статью нужно отменить. Это чуть ли не единственная статья в Уголовном кодексе, из которой совершенно не ясно, что она запрещает делать и за что наказывает. Любая статья начинается с описания деяния – например, кража, убийство, то есть сразу дается описание действия. В 282-й статье преступное деяние формулируется как действие. Из опыта мы знаем, что под этим понимаются в основном словесные действия, высказывания, публикации, но из самого закона это никак не следует. Вспомним пример с дагестанской свадьбой, гости которой стреляли в воздух. Это действие возбудило ненависть и рознь по отношению к гражданам Дагестана? Судя по реакции общества, возбудило. А почему же стреляющих не привлекли по 282-й статье? Потому что нет такой практики.
Итак, я считаю нужным отменить статью, я считаю, что уголовные нормы, карающие за слова, в законодательстве недопустимы, за исключением случаев, когда высказывания являются частью другого преступления. Часто 282-я статья используется при оценке насильственных преступлений в качестве квалифицирующего признака, то есть вместо того, чтобы сказать, что преступление было совершено по мотивам национальной ненависти, преступнику, помимо того, что он совершил, приписывают 282-ю статью. Все, что касается высказываний, должно отойти в гражданско-правовую сферу, в этом не должно разбираться государство. Что касается призывов к противоправным действиям – они должны быть запрещены, но этот запрет должен быть административным.
Если я с кем-то враждую, то совершаю преступление?
Александр Даниэль: Я категорический противник 282-й статьи в любом ее виде. Также я противник закона о противодействии экстремистской деятельности, принятого в 2002 году. Слова могут представлять собой состав преступления, но только для квалификации тех или иных высказываний совершенно не нужно никакой статьи. Какие действия, совершенные с помощью слов, могут быть преступными? Оскорбления, подстрекательства к совершению уголовных преступлений – но для них есть свои отдельные статьи. Давайте задумаемся: разве ненависть это преступление? Если я с кем-то враждую, то совершаю преступление? Тогда почему слова, направленные на возбуждения этих чувств, являются преступлением?
По последним двум пунктам – мне кажется, что насильственное действие, вызванное не корыстными, а интеллектуальными побуждениями, более опасно для общества. Например, если я устраиваю еврейский погром, чтобы пограбить, – это одно. Еще важны и границы понятия подстрекательства – оно может быть прямым или косвенным (к первому можно отнести «Бей жидов», потому что бить людей – хулиганство, а ко второму – мои рассказы о том, какие они омерзительные, я вроде бы просто высказываю свое мнение, но отсюда кто-то может сделать неправильные выводы). Может быть, косвенные подстрекательства не нужно криминализировать.
Еще один важный вопрос – а если подстрекательства выражены в форме художественного творчества? Дает ли какие-то преференции человеку, совершившему подстрекательство, тот факт, что он совершил это в виде романа или стихотворения? Мне бы хотелось, чтобы такие преференции были. Хотя, с другой стороны, художественное творчество может действовать сильнее, оно в этом смысле опаснее, но оно и неприкосновеннее. Мне кажется, многие вопросы нам поможет решить внедрение в сознание человека того, что он никогда не сможет почувствовать принадлежность к собственной культуре сильнее, чем в случае, когда он с уважением и интересом относится к чужим культурам.
282 статья сформулирована хреново
Если смотреть более подробно. «Возбуждение ненависти или вражды». Давайте заглянем в словари русского языка, чтобы выяснить, что такое ненависть. Оказывается, что это сильная вражда. Второе – это понятие социальной группы. Вообще понятие социального не для законов – в силу своей безразмерности. Социальное можно формировать по любому признаку – например, помните, у Конан Дойля был «Союз рыжих».
Далее: я считаю, что унижение по различным признакам, относящееся к высказываниям, нужно декриминализировать. Криминализацию нужно оставить лишь в случае призывов к насилию или дискриминации, причем такие высказывания должны быть связаны с посягательством на права человека (то есть не просто «кавказцы плохие», а что-то вроде «нужно запретить смешанные браки»).
И еще – как быть с распространением публикаций, текстов, разжигающих ненависть по отношению к представителям других конфессий и национальностей? «Mein Kampf», например. Не запрещать их – значит признать то, что они могут быть в открытом доступе и публичном поле, и то, что их можно рекламировать. Такого рода иски о признании материалов экстремистскими должны рассматриваться вышестоящими судами с выходом на апелляцию Верховного суда. Все-таки мы не можем бежать впереди Европы, в европейских странах эти нормы спящие, они редко применяются.
Я полагаю, что оптимальнее всего звучит предложение Александра Верховского. Еще я бы оставил либо ненависть, либо вражду и вывел бы в отдельную диспозицию понятие унижения, потому что общественная опасность всех этих действий разнится.

