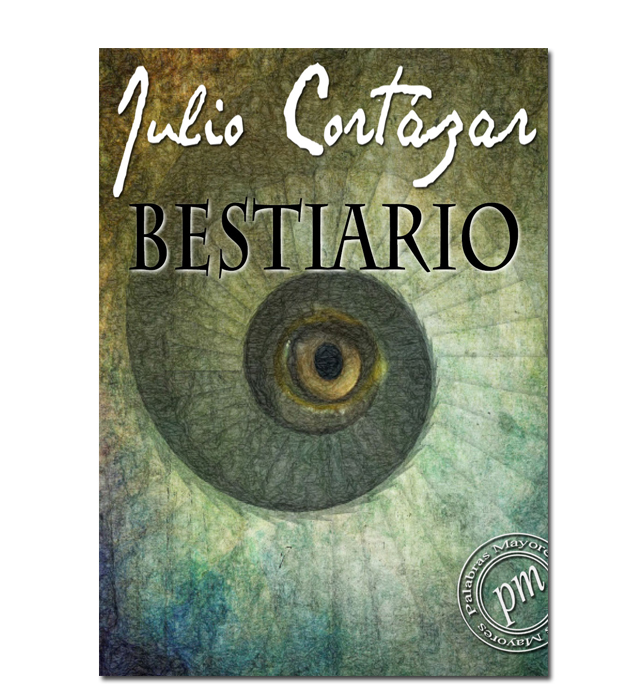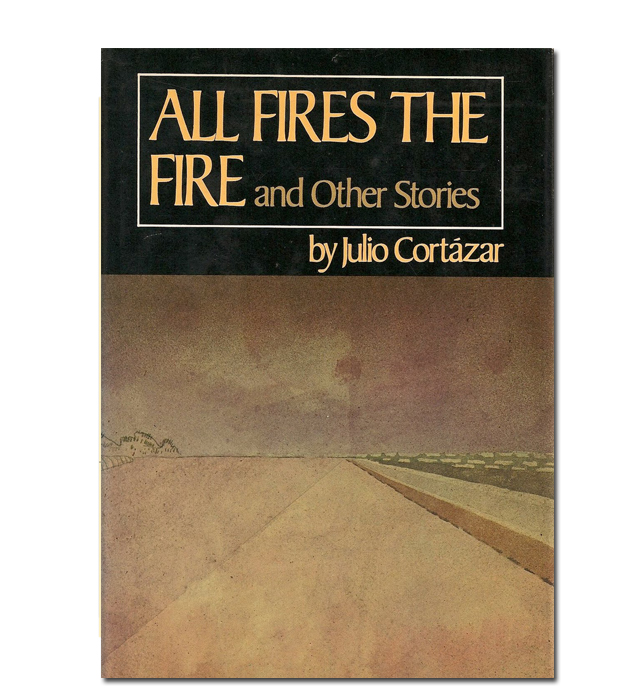хулио кортасар заколоченная дверь смысл
5 рассказов Кортасара, которые нужно прочесть
К 100-летнему юбилею великого аргентинца
Вышедший в 1966 году в сборнике «Все огни — огонь», этот рассказ описывает людей, попавших в немыслимую автомобильную пробку на подъездах к Парижу. Машины населяют самые типичные обыватели: молодой инженер, пожилая пара, молодожены, родители с ребенком, праведные монашки. Поначалу незадачливые автомобилисты перекидываются дежурными фразами, ругая правительство, жару, пытаются угадать возможную причину затора. Однако пробка приобретает невиданные даже по московским меркам масштабы — людям приходится кооперироваться, создавать запасы продовольствия, в необычный лагерь на открытом воздухе даже приходит влюбленность. Чудесным образом незнакомцы становятся друг для друга кем-то важным. Но как только движение возобновляется, у них больше нет времени глядеть по сторонам — жизнь возвращается в привычное русло, «вперед, только вперед».
Опубликованный в том же сборнике, что и «Южное шоссе», это рассказ о подростке, лежащем в больничной палате. Рассказчиками выступают все три главных персонажа — мальчик, его мать и молодая сиделка по имени Кора. Писатель даже не пытается как-то обозначить, где речь одного героя переходит в другую. Иногда нужно прочитать целую строку, чтобы понять, что с нами «на связи» мальчик, недовольный излишней опекой, а не его только что причитавшая мать. Это типичный для Кортасара прием, не раз встречающийся в других его произведениях. «Сеньорита Кора» — рассказ о хрупкости человеческого общения, достоинства и жизни. Влюбленность мальчика в сеньориту Кору меняет внутренний мир всех участников этой маленькой больничной драмы.
Если предшествующие рассказы из нашей подборки продемонстрировали, с какой легкостью Кортасар пренебрегает законами времени, то «Другое небо» — классический пример «расщепления пространства». Поначалу сложно понять, где же все-таки находится главный герой — в холодном центре Парижа или жарком Буэнос-Айресе. Герой не успел пожаловаться на промозглую погоду, как говорит, что от пота рубашка прилипает к спине. Вскоре мы осознаем, что Париж в рассказе — выходец из XIX века. Становится ясно, что жизнь героя в Аргентине — настоящая, а приключения в богемной французской столице, по которой бродит серийный убийца, — фантазия, «другое небо», куда герой сбегает от скучной монотонности супружеской жизни. Этот рассказ также входит в сборник «Все огни — огонь» 1966 года.
Хулио кортасар заколоченная дверь смысл
Отель «Сервантес» понравился ему тем, чем не понравился бы многим, — полумраком, тишиной, пустотой. Случайный попутчик на пароходе похвалил этот отель и сказал, что он — в центре; и вот уже в Монтевидео Петроне взял номер с ванной, выходивший прямо в холл второго этажа. Взглянув на доску с ключами, он понял, что отель почти пустой. К каждому ключу был прикреплен большой медный номер, чтобы постояльцы не клали их в карман.
Лифт останавливался в холле, у журнального киоска и списка телефонов, за несколько шагов от его двери. Вода шла горячая, чуть ли не кипяток, и это хоть немного искупало духоту и полумглу. Маленькое окошко выходило на крышу соседнего кино, по которой иногда прогуливался голубь. В ванной было свежей, окно побольше, но и там взгляд упирался в стену, а кусочек неба над ней казался неуместным. Мебель ему понравилась — много ящиков, полок и, что особенно редко, много вешалок.
Управляющий — высокий, тощий, лысый — носил очки в золотой оправе и, как все уругвайцы, говорил громко и звонко. Он сказал, что на втором этаже очень тихо, занят только один номер, соседний, и обитательница его поздно возвращается со службы. На другой день Петроне столкнулся с ней в лифте, он узнал ее по номерку, который она держала в руке, словно огромную монету. Портье взял ключи у них обоих, повесил на доску, а с женщиной поговорил о письмах. Петроне успел заметить, что она еще молода, невзрачна и плохо одета, как все здешние женщины.
Он рассчитал, что контракт с поставщиками мозаики займет примерно неделю. Под вечер он разносил вещи, разложил бумаги, принял ванну и пошел побродить, а потом отправился в контору. До самой ночи велись переговоры, скрашенные легкой выпивкой в кафе и ужином в частном доме. В отель его привезли во втором часу. Он устал и заснул сразу. Проснулся он в девять и в те первые минуты, когда еще не ушли ночные сны, подумал, что в середине ночи его потревожил детский плач.
Уходя, он поболтал с портье (тот говорил с немецким акцентом) и, справляясь об автобусных маршрутах и названиях улиц, рассеянно оглядывал холл, в который выходил его номер. В простенке между его дверью и соседней стояла на пьедестале жалкая копия Венеры Милосской. Дальше, сбоку, был ход в небольшую гостиную, уставленную, как и везде, креслами и журнальными столиками. Когда беседа замирала, тишина ложилась хлопьями золы на мебель и на плиты пола. Лифт громыхал нестерпимо, и так же громко шуршала газета или чиркала спичка.
Совещания кончились к вечеру. Петроне прогулялся по улице Восемнадцатого Июля[1], а потом поужинал в кафе на площади Независимости. Все шло хорошо, и, быть может, возвращение в Аргентину было ближе, чем ему казалось раньше. Он купил аргентинскую газету, пачку тонких черных сигар и пошел к себе. В кино у самого отеля шли две знакомые картины, да и вообще ему не хотелось никуда идти. Управляющий поздоровался с ним и спросил, не нужен ли еще один комплект белья. Они поболтали, покурили и простились.
Прежде чем лечь, Петроне прибрал бумаги, которые взял с собой, и лениво просмотрел газету. В гостинице было нестерпимо тихо; редкие трамваи на улице Сориано разрывали тишину на миг, а потом она делалась еще плотнее. Спокойно и все же нетерпеливо Петроне швырнул газету в корзинку и разделся, рассеянно глядя в зеркало. Зеркальный шкаф, довольно старый, заслонял дверь, ведущую в соседний номер. Увидев эту дверь, Петроне удивился — раньше он ее не заметил. Он понял, что здание не предназначалось для отеля: скромные гостиницы часто располагаются в прежних конторах и квартирах. Да и всюду, где он останавливался (а ездил он много), обнаруживалась запертая дверь, то ничем не закрытая, то загороженная шкафом, столом или вешалкой, двусмысленно и стыдливо, словно женщина, прикрывающая рукой грудь или живот. И все же, скрывай не скрывай, дверь была здесь, выступала над шкафом. Когда-то в нее входили, закрывали ее, хлопали ею, давали ей жизнь, и сейчас не исчезнувшую из ее непохожих на стену створок. Петроне представил себе, что за нею — другой шкаф и соседка тоже думает об этой двери.
Он не устал, но заснул крепко и проспал часа три, когда его разбудило странное чувство, словно случилось что-то дурное, какая-то неприятность. Он зажег лампу, увидел, что на часах — половина третьего, и погасил ее снова. И тогда в соседнем номере заплакал младенец.
Сперва он не совсем понял, даже обрадовался — значит, и вчера его мучил детский плач. Все ясно, он не ошибся, можно снова заснуть. Но тут явилась другая мысль; Петроне медленно сел и прислушался, не зажигая света. Да, плач шел оттуда, из-за двери. Он проходил сквозь дверь вот здесь, в ногах кровати. Как же так? Там не может быть ребенка; управляющий сказал твердо, что женщина — одна и весь день на службе. Быть может, она взяла его на ночь у родственницы или подруги… А вчера? Теперь он знал, что слышал и тогда этот плач, не похожий ни на что другое: сбивчивый, слабый, жалобный, прерываемый то хныканьем, то стоном, словно ребенок чем-то болен. Наверное, ему несколько месяцев — новорожденные плачут громче, кричат и заходятся. Петроне почему-то представил себе, что это непременно мальчик, хилый, больной, сморщенный, который еле шевелится от слабости. Вот это и плачет по ночам, стыдливо жалуется, хнычет, не привлекая внимания. Не будь этой двери, никто бы и не знал о ребенке — стены этим жалобным звукам не одолеть.
За завтраком, куря сигару, Петроне еще о нем подумал. Дурные ночи мешают дневным делам, а плач будил его два раза. Второй раз было хуже: женский голос — очень тихий, нарочито четкий — мешал еще сильнее! Ребенок умолкал на минуту, а после короткий стон сменялся горькой жалобой. И снова шептала женщина непонятные слова, заклинала по-матерински своего младенца, измученного телесной или душевной болью, жизнью или страхом смерти.
«Все это очень мило, но управляющий меня надул», — подумал Петроне, выходя. Ложь сердила его, и он того не скрыл. Управляющий, однако, удивился:
— Ребенок? Вы что-то спутали. У нас нет грудных детей. Рядом с вами — одинокая дама, я ведь говорил.
Петроне ответил не сразу. Одно из двух: или управляющий глупо лжет, или здешняя акустика сыграла с ним дурацкую шутку. Собеседник глядел чуть искоса, словно и его все это раздражало. «Наверное, считает, что я из робости не решаюсь потребовать, чтобы меня перевели в другой номер», — подумал Петроне. Трудно, просто бессмысленно настаивать, когда все наотрез отрицают. Петроне пожал плечами и спросил газету.
— Наверное, приснилось, — сказал он. Ему было неприятно, что пришлось говорить это и вообще объясняться.
В вестибюле было так тихо, что, сам того не замечая, он пошел на цыпочках. У кровати лежали вечерняя газета и письма из дому. Он узнал почерк жены.
Прежде чем лечь, он долго смотрел на шкаф и на выступавший над ним кусок двери. Если положить туда два чемодана, дверь исчезнет совсем и звуки будут много глуше. В этот час, как и прежде, стояла тишина. Отель уснул, спали и вещи, и люди. Но растревоженному Петроне казалось, что все не так, что все не спит, ждет чего-то в сердцевине молчания. Его невысказанный страх передается, наверное, и дому, и людям, и они тоже не спят, притаившись в своих номерах. Как это глупо, однако!
Когда ребенок заплакал часа в три, Петроне почти не удивился. Привстав на кровати, он подумал, не позвать ли сторожа, — пускай свидетель подтвердит, что тут не заснешь. Плакал ребенок тихо, еле слышно, порой затихал ненадолго, но Петроне знал, что крик скоро начнется снова. Медленно проползали десять—двенадцать секунд, что-то коротко хрюкало, и тихий писк переходил в пронзительный плач.
Улица Восемнадцатого Июля — улица названа так в связи с тем, что 18 июля 1830 года в Монтевидео была принята первая Конституция Независимой Республики Уругвай.
Хулио кортасар заколоченная дверь смысл
Марк Амусин — литературовед, критик. Автор книг «Братья Стругацкие. Очерк творчества» (1996), «Город, обрамленный словом» (2003), «Зеркала и зазеркалья» (2008), «Алхимия повседневности. Очерк творчества Владимира Маканина» (2010), а также многочисленных статей по проблемам современной российской и западной литературы.
Но тут пора оставить тихую заводь воспоминаний и выйти на простор анализа, дефиниций, сопоставлений. Можно ли определить — точно и внятно — «объективную ценность» творчества Кортасара или, по меньшей мере, его уникальность, оригинальность?
Попробуем начать с того, что одушевляло писателя, что составляло самый глубокий план его фантазийных трансформаций, переплавок реальности. Кортасар как художник и как индивид, обретающийся в этом мире, глубоко неудовлетворен общими параметрами удела человеческого. Ох, как давит на него атмосферный столб биофизических ограничений, житейских привычек, социальной рутины! Он отказывается мириться с тем, что человек существует в одной ипостаси, а не в двух или многих, что он должен подчиняться закону причинности и всяческим расписаниям, что его отношения с миром определяются жесткой оппозицией «субъект — объект», что время его жизни ограничено и уныло влачится в одном направлении — от прошлого к будущему.
Кортасар был всегда убежден в неполноте, недостаточности обычной действительности, той скучной эмпирики, в которую мы по определению погружены. Он, словно визионер, религиозный мистик, чувствовал присутствие других измерений — и пытался вызвать, выкликать их, явить их — самому себе и читателям.
Кортасар хотел быть участником самой грандиозной и радикальной революции, какую только можно себе вообразить: революции сознания, восприятия человеком внешней и внутренней реальности. В его понимании литература должна была стать одним из путей, ведущих в будущее, свободное от проклятий рассудочности и отчужденности, в утопическое будущее, где произойдет воссоединение человека с потерянным раем, с «центром», с Царством — для символического обозначения своих упований Кортасар использовал разные образы, в том числе заимствованные из буддизма и индуизма.
Итак, речь идет об утопии и одновременно о бунте — против закона и порядка, стен и границ, против ровной, гладкой плоскостности бытия/времени.
Утопизм был в 60-е годы веянием времени — и не только в Латинской Америке. Убежденность в том, что радикальное изменение условий человеческого существования, самого «чувства жизни» — где-то совсем рядом, на расстоянии вытянутой в приветственном жесте руки, кружила головы молодым людям в Калифорнии и Париже, в Нью-Йорке, Праге и Москве. А представители старших поколений с надеждой и некоторой завистью взирали на эту волну безоглядной свободы и безотчетного энтузиазма. (В 1968 году Кортасар восхищался студенческим восстанием в Париже, коллекционировал надписи на стенах зданий — его фольклор и метафизику.)
Литературная утопия тоже пережила в ту пору своего рода ренессанс. На Западе появилось тогда немало литературных сочинений, озабоченных проектами идеального человеческого общежития, — от произведений Урсулы Ле Гуин и Роберта Сильверберга до последнего романа Олдоса Хаксли «Остров».
От футурологического оптимизма в стиле Стругацких аргентинца отдаляло и отношение к труду. Гимнов работе как высшей цели и ценности от него не услышишь. Герои Кортасара все больше предпочитают заниматься тем, что приносит им радость, а если это невозможно — попросту бездельничать, «смотреть на облака», дурачиться… Лозунг обитателей Телемской обители (это, если кто не помнит, из Франсуа Рабле) «Делай что хочешь!» служит для этих людей своего рода категорическим императивом. Впрочем, тому, что их увлекает, они отдаются с энтузиазмом, и этот подход вполне совместим с рефлексией молодого Маркса об «уничтожении труда» или, по крайней мере, о преодолении его разделения и отчуждения.
Важно отметить и другое. Позитивный идеал писателя включает в себя, помимо прочего, тотальную свободу утоления желаний, слом любых ограничений, любых нравственных запретов, особенно в сексуальной сфере. Об этом, однако, речь подробнее пойдет позже.
Как это делается? Прежде всего — атмосфера, поначалу обманчиво реалистическая, психологически уютная, располагающая читателя к доверию. Но очень скоро она насыщается элементарными частицами «иного», зарядами таинственного или невероятного. Часто от этих допущений исходит смутный аромат опасности — но ведь всякий разрыв с обыденностью несет в себе угрозу.
Во многих рассказах Кортасара (говорим пока о них) ощутим — пусть хорошо замаскированный — «поворот винта», момент трансформации, когда в хронотоп обыденности вдвигается клин чудесного: короткое замыкание между разными эпохами, материализация беспутного алогизма сна, скачок в иное бытийное состояние. Магниевая вспышка магии новым светом освещает мир и окрестности.
Вот человек, пристально вглядывающийся в загадочных обитателей аквариума — аксолотлей, вдруг сам оборачивается одним из этих земноводных и уже с той стороны созерцает непроницаемую стену между бытием и инобытием («Аксолотль»). Вот мотоциклист, очутившийся в больнице после аварии, перевоплощается в бреду в индейца, которому предназначена роль ритуальной жертвы. В промежутках кошмара он пытается вернуться в «здесь и сейчас», с больничным комфортом, бульоном и потоками световой рекламы за окном, но постепенно его затягивает реальность более высокого порядка — древняя реальность мифа и смерти («Ночью на спине лицом кверху»).
Герой Кортасара легко переносится из Аргентины 30-х годов с унылой жарой, жениховством, биржей — в галереи парижских улочек и кабачков эпохи В торой империи, где девушки смешливы, пугливы и щедры на любовь, а ночные похождения приперчены страхом перед бродящим поблизости маньяком-убийцей («Другое небо»)…
Но самую лаконичную и изощренную версию превращения Кортасар демонстрирует в рассказе «Непрерывность парков». Там изящным скользящим изгибом плоскости повествования (вот уж воистину «лента Мебиуса»!) он совмещает сферы сущего и воображаемого. Персонаж книги, которую читает герой рассказа, вдруг проникает в реальность (самого рассказа, конечно же) и закалывает кинжалом читателя — того, в чьем восприятии он только и существует.
Однако писатель, разумеется, не хотел ограничиваться роскошными пирами воображения, сеансами самодовлеющей литературной магии. Для него была важна — и чем дальше, тем важнее — ситуация человека как субъекта изменений и превращений. В произведениях Кортасара внешние события тесно, хоть и сложным образом, связаны с ментальной реальностью, с личностным выбором, с модусами существования и поведения героев.
Вот рассказ «Инструкции для Джона Хауэлла ». Зритель, уютно скучающий в театральном зале на банальном представлении — «посторонний», — внезапно вырван из этого статуса наблюдателя. Его настойчиво приглашают (кто, почему — неизвестно) стать участником действия, разворачивающегося на сцене. Уже скачок, уже нарушение привычного порядка. Но ситуация тут же закручивается новым витком спирали. Герою «диктуют» его роль — и он начинает догадываться, что речь идет не об игре, а о заговоре, о гибели всерьез для одной из участниц спектакля. Подчиниться, стать одним из исполнителей непонятного плана — или возмутиться?
Возникает ситуация экзистенциального выбора. Герой, руководствуясь безотчетным импульсом, решает проявить непокорство, пойти против навязанных ему правил. Тем самым он вступает в зону свободы и смертельного риска…
А другой персонаж писателя, опять же по своей воле, решает: он не может сблизиться с понравившейся ему женщиной, если не будет выполнен сложный предварительный ритуал, предполагающий цепочку маловероятных совпадений. Он подчиняет свою жизнь жестокому и абсурдному эксперименту. Мало кто был бы способен наполнить умозрительную схематику этого рассказа («Из блокнота, найденного в кармане») столь подлинной человеческой горечью, отчаянием от неспособности отринуть «правила игры» собственного изобретения.
Другой существенный мотив Кортасара — детство как бытийное состояние. Дети с их обостренным и раскованным восприятием жизни, с их фантазиями и фобиями, с их уязвимостью и наивным визионерством противостоят скучной и фальшивой упорядоченности мира взрослых. Кроме того, детство здесь — лакмусовая бумажка, демонстрирующая несправедливость, фундаментальную дефектность этого мира. Символ плачущего или гибнущего ребенка переходит из одного произведения писателя в другое. Впрочем, тема трактуется без излишней сентиментальности и «теплоты», без выжимания слезы. Детство у Кортасара близко к первоистокам жизни, где не действительны расхожие конвенции морали и цивилизации.
Со временем Кортасар все больше сосредоточивался на том, что может противостоять энтропии и «духу тяжести» в пространстве человеческих отношений, в сфере социального. В более поздних его произведениях воля к расширению горизонтов и обновлению повествовательных форм дополняется пафосом поиска солидарности. Писатель стремится нащупать точки динамического равновесия между максимальной самореализацией индивида — и его способностью контактировать с «другими». Кортасар строит разнообразные конфигурации человеческого взаимодействия — группы, ансамбли, «созвездия», — тут же анализирует их, испытывает на прочность, продуктивность, эстетическую пригодность.
В повести «Южное шоссе» на расхожем житейском примере грандиозной транспортной пробки тонко прослеживается постепенное наращивание «паутины» взаимоотношений между собратьями по несчастью, по ситуации, в которой людям волей-неволей приходится преодолевать отчуждение, понимать и «принимать» друг друга. Но ситуация разряжается — и сетка связей, взаимопонимания и взаимопомощи разрывается.
Солидарности в общепринятом смысле слова здесь, прямо скажем, немного. Выясняется, однако, что одним лишь негативизмом, одними « дзен-пощечинами homo sapiens’у » ни общность, ни индивид держаться не могут. В финале романа Оливейра сидит на подоконнике своей комнаты, ноги наружу, и балансирует между вариантами: самоубийство, полная потеря себя (безумие) — или возвращение в мир человеческих отношений, к приязни и поддержке своих более ординарных друзей.
Результат эксперимента, очевидно, не вполне удовлетворил автора. Кортасар продолжал колебаться между магическим и инструментальным отношением к миру. Точнее — к его преображению. Сколь бы ни был чужд ему рационалистический, «системный» подход, сколь бы ни влекли его развеселая патафизическая анархия и процедуры расширения сознания, временами в нем брал верх социальный борец, ненавидящий диктатуры, спецслужбы и транснациональные корпорации больше, чем законы генетики, гравитации, причинности.
В последнем своем большом романе, «Книге Мануэля », писатель вернулся в пространство человеческих измерений, умерив буйство семиотической игры. Этот роман стал для писателя вызовом и испытанием, здесь он предпринял отчаянное усилие совместить «горизонт одного» с «горизонтом всех». Кортасар набрасывает в романе контур «группы» в сартровском смысле слова. Это общность людей, соединившихся добровольно ради достижения сверхличной цели. Говоря проще, речь тут идет о кучке революционеров из Южного полушария, готовящих в Париже акцию: захват высокопоставленного латиноамериканского деятеля с требованием освобождения политических заключенных. Подготовка этой акции, Бучи — смягченный перевод на русский кодирующего матерного словца, — и составляет сюжетный план романа.
Герои романа движутся к финалу, к жестокой развязке весело. Смеясь, изменяю мир. Для Кортасара это — императив. Борец с существующим порядком — хроноп по определению. Смех, шутка, спонтанность и карнавал, балагурство и чудачество были для него неотделимы от «действия».
Смех — и благодать плоти. Не случайно именно в этом романе, с его революционной перспективой и заглубленным пафосом самопожертвования, правит бал дискурс секса. Кортасар не просто откровенен в своих описаниях, не просто отстаивает тезис о законности любой формы влечения и его удовлетворения — после Генри Миллера, Набокова и битников этим никого нельзя было удивить или эпатировать. Он, похоже, ставит тут себе парадоксальную эстетическую задачу: длящимися, подробными, многословными периодами передать бегущие волны телесной бури, ее толчки, конвульсии и затишья, ее фазовые сдвиги. Он обстоятельно изображает неистовство соитий, занимается тонкой словесной огранкой оргазма — пусть это и звучит оксюмороном.
Кортасар программно стремится уравновесить серьезность целей, драматизм пути — вызывающей раскованностью сознания, нравов и повадок своих героев. Дается это не просто — в тексте ощутимы напряжения, «ребра жесткости». Диалектика общего дела и безграничной свободы обретает порой конфликтный характер. Разрешение ее, по мысли автора, — в далекой временной и смысловой перспективе, где видение розы, птицы, женского лона стирает с горизонта знак доллара, а пожалуй, и эмблему серпа с молотом.
… Кортасар умер в середине 80-х, еще до того, как его творчество выявило свою несовместимость с атмосферой «конца века» и с субстанцией новой прекрасной эпохи. Конечно, и сегодня в мире немало читателей и почитателей его книг. Но общая востребованность и « статусность » его прозы нынче намного меньше, чем несколько десятилетий назад.
Может быть — это всего лишь естественный процесс устаревания «бренда», автор которого — ровесник П ервой мировой войны? Оно, конечно, так, но есть для этого причины и более специфические, связанные с параметрами социальной и культурной эволюции.
Крушение СССР и социалистического лагеря, сколь бы неуклюжей и «отягощенной злом» эта постройка ни оказалась, сыграло свою роль в закате утопического мировидения. Все-таки рухнула единственная, пусть и несовершенная, альтернатива всесилию мамоны. Заодно «завис» и кубинский эксперимент, который в последние два десятилетия жизни Кортасара служил ему компасом и критерием. Романтика и экзотика «реального социализма», будь то в восточноевропейской или латиноамериканской его ипостаси, сильно поблекла в глазах широкой интеллектуальной публики.
Но можно говорить и о более масштабных сдвигах в коллективном сознании на рубеже тысячелетий. Не стоит пытаться покрывать все смысловые гнезда растяжимой, безразмерной концепцией постмодернизма. И все же именно с постмодернизмом книги Кортасара обнаружили тканевую несовместимость. Хотя, казалось бы, столь любимые им игровые подходы и стратегии сродни этому культурному течению.
Казалось бы, в гражданско-политической сфере устремления и упования Кортасара сбываются. На его родном континенте хунты и диктатуры правого толка практически исчезли, их сменили демократически избранные правительства. По всему миру катится волна борьбы за права человека и гражданина — при этом борьбы мирной, обходящейся без партизанской героики и захватов посольств. Рушатся законодательно закрепленные табу, поток либертинизма размывает традиционные представления и предрассудки в самых различных жизненных сферах. В Европе и Америках, отчасти даже в Азии с Африкой уличные демонстранты и завсегдатаи социальных сетей, «зеленые» и феминистки, правозащитники и на-чистую-воду-выводители теснят со всех сторон госчиновников, церковных прелатов, явных бюрократов и тайных агентов спецслужб.
Главное же — в коллективном культурном сознании заметно понизился спрос на метаморфозы. Люди, потенциальные читатели, уже не ждут, что «за поворотом, в глубине лесного лога» им откроется нечто удивительное, качественно иное, странным светом освещающее их обыденное существование. Нет, пусть уж жизнь прирастает продвижениями по службе, заботой о здоровом питании, новыми « гаджетами » и густыми, однородными в своем разнообразии потоками новостей…